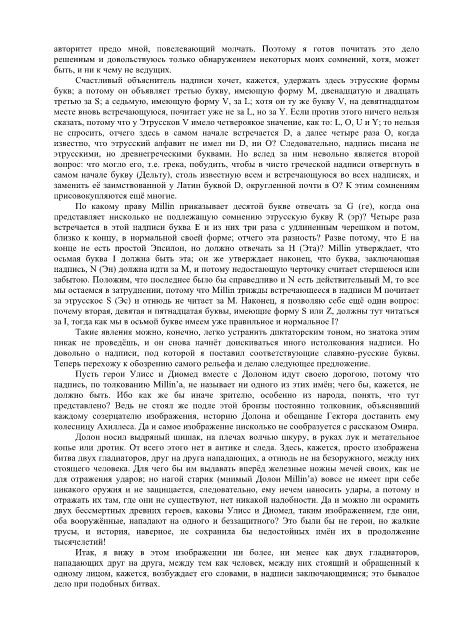Page 123 - Древнейшая история Славян и Славяно-Руссов до Рюриковского времени
P. 123
авторитет предо мной, повелевающий молчать. Поэтому я готов почитать это дело
решенным и довольствуюсь только обнаружением некоторых моих сомнений, хотя, может
быть, и ни к чему не ведущих.
Счастливый объяснитель надписи хочет, кажется, удержать здесь этрусские формы
букв; а потому он объявляет третью букву, имеющую форму М, двенадцатую и двадцать
третью за S; а седьмую, имеющую форму V, за L; хотя он ту же букву V, на девятнадцатом
месте вновь встречающуюся, почитает уже не за L, но за Y. Если против этого ничего нельзя
сказать, потому что у Этруссков V имело четвероякое значение, как то: L, О, U и Y; то нельзя
не спросить, отчего здесь в самом начале встречается D, а далее четыре раза О, когда
известно, что этрусский алфавит не имел ни D, ни О? Следовательно, надпись писана не
этрусскими, но древнегреческими буквами. Но вслед за ним невольно является второй
вопрос: что могло его, т.е. грека, побудить, чтобы в чисто греческой надписи отвергнуть в
самом начале букву (Дельту), столь известную всем и встречающуюся во всех надписях, и
заменить её заимствованной у Латин буквой D, округленной почти в О? К этим сомнениям
присовокупляются ещё многие.
По какому праву Millin приказывает десятой букве отвечать за G (ге), когда она
представляет нисколько не подлежащую сомнению этрусскую букву R (эр)? Четыре раза
встречается в этой надписи буква Е и из них три раза с удлиненным черешком и потом,
близко к концу, в нормальной своей форме; отчего эта разность? Разве потому, что Е на
конце не есть простой Эпсилон, но должно отвечать за Н (Эта)? Millin утверждает, что
осьмая буква I должна быть эта; он же утверждает наконец, что буква, заключающая
надпись, N (Эн) должна идти за М, и потому недостающую черточку считает стершеюся или
забытою. Положим, что последнее было бы справедливо и N есть действительный М, то все
мы остаемся в затруднении, потому что Millin трижды встречающееся в надписи М почитает
за этрусское S (Эс) и отнюдь не читает за М. Наконец, я позволяю себе ещё один вопрос:
почему вторая, девятая и пятнадцатая буквы, имеющие форму S или Z, должны тут читаться
за I, тогда как мы в осьмой букве имеем уже правильное и нормальное I?
Такие явления можно, конечно, легко устранить диктаторским тоном, но знатока этим
никак не проведёшь, и он снова начнёт доискиваться иного истолкования надписи. Но
довольно о надписи, под которой я поставил соответствующие славяно-русские буквы.
Теперь перехожу к обозрению самого рельефа и делаю следующее предложение.
Пусть герои Улисс и Диомед вместе с Долоном идут своею дорогою, потому что
надпись, по толкованию Millin’a, не называет ни одного из этих имён; чего бы, кажется, не
должно быть. Ибо как же бы иначе зрителю, особенно из народа, понять, что тут
представлено? Ведь не стоял же подле этой бронзы постоянно толковник, объяснявший
каждому созерцателю изображения, историю Долона и обещание Гектора доставить ему
колесницу Ахиллеса. Да и самое изображение нисколько не сообразуется с рассказом Омира.
Долон носил выдряный шишак, на плечах волчью шкуру, в руках лук и метательное
копье или дротик. От всего этого нет в антике и следа. Здесь, кажется, просто изображена
битва двух гладиаторов, друг на друга нападающих, а отнюдь не на безоружного, между них
стоящего человека. Для чего бы им выдавать вперёд железные ножны мечей своих, как не
для отражения ударов; но нагой старик (мнимый Долон Millin’a) вовсе не имеет при себе
никакого оружия и не защищается, следовательно, ему нечем наносить удары, а потому и
отражать их там, где они не существуют, нет никакой надобности. Да и можно ли осрамить
двух бессмертных древних героев, каковы Улисс и Диомед, таким изображением, где они,
оба вооружённые, нападают на одного и беззащитного? Это были бы не герои, но жалкие
трусы, и история, наверное, не сохранила бы недостойных имён их в продолжение
тысячелетий!
Итак, я вижу в этом изображении ни более, ни менее как двух гладиаторов,
нападающих друг на друга, между тем как человек, между них стоящий и обращенный к
одному лицом, кажется, возбуждает его словами, в надписи заключающимися; это бывалое
дело при подобных битвах.